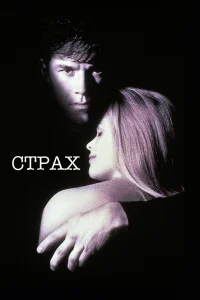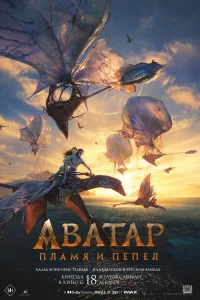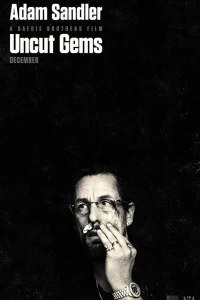Он помнил всё. Каждый учебник, каждую лекцию, каждый мелькнувший в периферии зрения снимок МРТ — всё это навсегда отпечатывалось в его сознании, как на чистой фотоплёнке. Его пальцы, тонкие и неловкие, держащие чашку, могли уловить малейшую дрожь в руке пациента — ту, что не видели датчики. Он чувствовал болезнь. Не просто видел её признаки, а буквально ощущал её тёплое, нездоровое присутствие под кожей, как слепой читает выпуклые точки шрифта Брайля.
В операционной этот странный, молчаливый парень преображался. Его движения становились выверенными, точными, почти элегантными. Он оперировал с холодной, безошибочной гениальностью, предвидя осложнения за секунды до их появления. Коллеги шептались о «чуде» и «даре свыше». Для больницы он стал бесценным активом, живым диагностическим компьютером с руками виртуоза.
Но когда двери операционной закрывались, дар оборачивался иной стороной. Мир вне стен больницы был для него слишком громким, слишком быстрым, непонятным. Он путался в простых шутках, не улавливал намёков, искренне радовался мультфильмам по утрам. Его эмоции были яркими и непосредственными, как у ребёнка: мгновенная обида на резкое слово, восторг от воздушного шарика, полное непонимание сарказма или флирта. Он мог блестяще реконструировать артерию, но не знал, как завязать дружескую беседу за кофе.
Его жизнь разделилась на две неравные части: в одной он был доктором-вундеркиндом, спасающим жизни, в другой — вечным десятилетним мальчиком, который боялся громких звуков и коллекционировал яркие фантики, с трепетом разглядывая их перед сном.